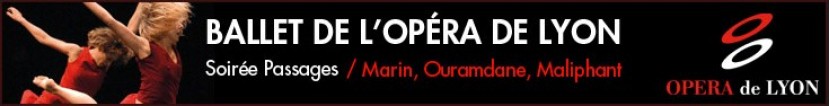9-19 июня 2016 – Théâtre Lévi-Strauss, Musée du Quai Branly
К 10-летию Музея на набережной Бранли японский режиссер Сатоси Мияги с труппой актеров из возглавляемого им Центра сценических искусств Сидзуока (SPAC) придумали спектакль, который будет играться десять дней в театре им.Леви -Стросса. Того самого театра, к открытию которого в 2006 году Мияги поставил уже знаменитую теперь «Махабхарату». В создании спектакля «Белый заяц из Инабы и Навахо», Мияги основывается на трудах самого Клода Леви-Стросса, создателя структурной типологии мифа: так, изучая легенды Японии и североамериканских индейцев, ученый приходит к выводу, что у них должен был существовать некий общий прототип. Сатоси Мияги принимает вызов: вместе с актерами своей труппы он возвращается в архаические времена устной традиции, чтобы попытаться отыскать первоначальный миф и дополнить два известных, японский и североамериканский. Таким образом, спектакль состоит из трех частей, объединенных историей путешествия-инициации героя.

Первая рассказывает наиболее известный миф о Белом Зайце из Инабы, базирующийся на древнейшем дошедшем до нас японском тексте Кодзики (VIII век). Белый Заяц, решивший покинуть свой остров, предложил морскому крокодилу Вани сравнить у кого из них родичей больше. Для подсчета крокодилов, Заяц просит их выстроиться в ряд по морю. Так перебрыгивая с одного на другого, Заяц перебрался на другой берег, но уже почти достигнув суши, признался в обмане. За это крокодил содрал с него кожу. Потом Зайцу повстречались 80 братьев, у которых он просит помощи. Но те надсмеялись над ним, посоветовав окунуться в морскую воду. Когда Заяц последовал их совету, соль из моря высохла и Заяц стал страдать еще больше. Идущий следом за старшими братьями младший Окунинуси, напротив, пожалел Зайца, и научил, как ему исцелиться. В благодарность Заяц сделал так, что принцесса Ягамихимэ выбрала в мужья именно его. За что братья убивают Окуниниси, и он попадает в Подземное Царство, злой Император которого подвергает его различным испытаниям. Но благодаря дочери Императора, герой выдерживает все испытания, и вместе с ней возвращается на землю, и становится справедливым правителем.  Во второй части, основанной на сказаниях американских индейцев Навахо, история превратилась в миф о близнецах, которые отправляются на поиски Отца-Солнца, этот последний подвергнул их экстремальных испытания, которые они смогли выиграть благодаря помощи его дочери, принцессы. Солнце признает в них своих детей, и вручает им чудесное оружие с помощью которого они, возвратясь домой, принесли на землю мир и благоденствие. В третьей части, придуманной труппой SPAC( работали методом коллективного творчества), тот же сюжет, но с вариациями из японской легенды: есть опять близнецы, которые отправляются на поиски отца, и переправа через гигантскую реку на спине чудовища, которое они пытаются обмануть – в результате один погибает. Второй добирается к дому Солнца. Опять серия испытаний и признание Солнцем своего отцовства, и конечно, любовь принцессы, и как апофеоз -возвращение на землю с даром огня, главным подарком Божества герою. Если оценить научную значимость работы Мияги представляется делом сложным, сценически задумка удалась. Весь спектакль организуется музыкой, и музыканты с традиционными инструментами занимают большую часть сцены. Сценическое пространство выстраивается по-разному. В первой части сцену перекрывает полукруглая ширма из серебристых нитей, за которой находится оркестр и хор, тогда как само действие происходит на авансцене. Во второй части, приключения близнецов проходят внутри пространства из серебристых нитей, а музыканты находятся вовне.
Во второй части, основанной на сказаниях американских индейцев Навахо, история превратилась в миф о близнецах, которые отправляются на поиски Отца-Солнца, этот последний подвергнул их экстремальных испытания, которые они смогли выиграть благодаря помощи его дочери, принцессы. Солнце признает в них своих детей, и вручает им чудесное оружие с помощью которого они, возвратясь домой, принесли на землю мир и благоденствие. В третьей части, придуманной труппой SPAC( работали методом коллективного творчества), тот же сюжет, но с вариациями из японской легенды: есть опять близнецы, которые отправляются на поиски отца, и переправа через гигантскую реку на спине чудовища, которое они пытаются обмануть – в результате один погибает. Второй добирается к дому Солнца. Опять серия испытаний и признание Солнцем своего отцовства, и конечно, любовь принцессы, и как апофеоз -возвращение на землю с даром огня, главным подарком Божества герою. Если оценить научную значимость работы Мияги представляется делом сложным, сценически задумка удалась. Весь спектакль организуется музыкой, и музыканты с традиционными инструментами занимают большую часть сцены. Сценическое пространство выстраивается по-разному. В первой части сцену перекрывает полукруглая ширма из серебристых нитей, за которой находится оркестр и хор, тогда как само действие происходит на авансцене. Во второй части, приключения близнецов проходят внутри пространства из серебристых нитей, а музыканты находятся вовне.  В третьей пространство сцены расширяется, ширма, подобно легкому покрову, поднимается над подмостками, оставляя практически все пространство музыкантам, а само действие будет происходить в центре и на амфитеатре в глубине сцены, зеркально повторяющем зрительный зал. Стиль спектакля, так же, как и тексты, отсылает к архаике, к тому времени, когда японский театр еще был далек от изысканности ритуала Кабуки и Но, а представления исполнялись самими деревенскими жителями. Отсюда наивный характер масок (из бумаги, дерева или соломы) и всего действа, напоминающего яркое народное празднество с участием актеров-танцоров-певцов, представляющих не только персонажей, но и целый бестиарий. (Внути спектакля есть также ироничный пассаж с участием самого ученого, представленного в той же наивной стилистике, что и вся постановка: рисованный портрет Леви-Стросса, приколотый к тотемному шесту). Чтобы подчеркнуть выразительность масок, Мияги одел актеров в простые однотонные кимоно. От рафинированности традиционного японского театра постановщик взял разделение слова и действия, актер здесь только жест и танец- типичный для стиля Мияги принцип, по которому текст произносится сказителями, а актеры выражают всю историю пластически, и к тому же в довольно разработанной хореографии. Но все – и танцоры, и музыканты словно подчиняются общей мелодии, задающей такт их перемещениям по сцене. Оркестр здесь, как в традиционном японском театре, не только задает ритм, сколько направляет все действие, подчеркивает пронзительным звучанием пластические композиции и реплики персонажей, которые произносит сказитель. Тем не менее, общая живость действия и хореография явно говорят о влиянии европейской традиции: Центр сценических искусств Сидзуока, которым Мияги руководит с 2007 года, один из немногих театров Японии, открытых для европейских режиссеров и репертуара. Вряд ли возможно было придумать лучший выбор, чем Мияги, чтобы отпраздновать юбилей музея, ставшего символом диалога между разными цивилизациями.
В третьей пространство сцены расширяется, ширма, подобно легкому покрову, поднимается над подмостками, оставляя практически все пространство музыкантам, а само действие будет происходить в центре и на амфитеатре в глубине сцены, зеркально повторяющем зрительный зал. Стиль спектакля, так же, как и тексты, отсылает к архаике, к тому времени, когда японский театр еще был далек от изысканности ритуала Кабуки и Но, а представления исполнялись самими деревенскими жителями. Отсюда наивный характер масок (из бумаги, дерева или соломы) и всего действа, напоминающего яркое народное празднество с участием актеров-танцоров-певцов, представляющих не только персонажей, но и целый бестиарий. (Внути спектакля есть также ироничный пассаж с участием самого ученого, представленного в той же наивной стилистике, что и вся постановка: рисованный портрет Леви-Стросса, приколотый к тотемному шесту). Чтобы подчеркнуть выразительность масок, Мияги одел актеров в простые однотонные кимоно. От рафинированности традиционного японского театра постановщик взял разделение слова и действия, актер здесь только жест и танец- типичный для стиля Мияги принцип, по которому текст произносится сказителями, а актеры выражают всю историю пластически, и к тому же в довольно разработанной хореографии. Но все – и танцоры, и музыканты словно подчиняются общей мелодии, задающей такт их перемещениям по сцене. Оркестр здесь, как в традиционном японском театре, не только задает ритм, сколько направляет все действие, подчеркивает пронзительным звучанием пластические композиции и реплики персонажей, которые произносит сказитель. Тем не менее, общая живость действия и хореография явно говорят о влиянии европейской традиции: Центр сценических искусств Сидзуока, которым Мияги руководит с 2007 года, один из немногих театров Японии, открытых для европейских режиссеров и репертуара. Вряд ли возможно было придумать лучший выбор, чем Мияги, чтобы отпраздновать юбилей музея, ставшего символом диалога между разными цивилизациями.

В финале, и музыканты, и персонажи трех мифов вступают на сцену, чтобы слиться в апофеозе Гимна Солнцу, тогда как задник поднимается, открывая панораму прекрасных садов Музея Бранли.
Crédit photo: Muséé du Quai Branly