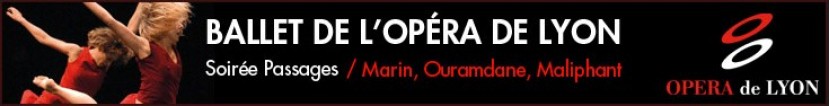Французский режиссер Давид Бобе, начинавший как ассистент на знаменитых чеховских спектаклях Эрика Лакаскада, Чехова не ставит. Зато активно разрабатывает территории современного многожанрового спектакля с русскими актерами-выпускниками московской Школы-студии МХТ.
Гастроли Седьмой Студии МХТ (Studio 7) со спектаклями Д. Бобе и К.Серебренникова в Théâtre National de Chaillot «Сон в летнюю ночь» Шекспира:14-19 марта 2014
«Метаморфозы» ( по Овидию):21 – 28 Марта 2014 (дополнительно, 3-4 апреля Кан, Нормандия)
В театре Les Gémeaux, Sceaux: «Гамлет». Постановка Д.Бобе: 4 –9 марта 2014
Интервью Давида Бобе из Архива « Европейской Афиши » : между Москвой и Парижем
12 марта 2014
Давид Бобе – один из самых многообещающих французских режиссеров поколения тридцатилетних стал известен благодаря своим постановкам современных авторов. Хотя самый громкий его успех связан с постановкой «Гамлета». В этом спектакле поражало все: выверенная эстетическая красота картинки, неожиданное режиссёрское решение, связавшее текст Шекспира с компьютерными технологиями, современной музыкой, хореографией и даже цирком.

Photo Alex Yocu
Итак, «Гамлет», показанный на сцене театра Сréteil в 2010 году, органично вписывался в самую современную компьютерную технологию. Именно из помех воображения и заэкранного виртуального голоса складывался здесь Призрак отца Гамлета, так что до конца не понять, был ли, не был. Стиль спектакля, действие которого, кстати сказать, с начала до конца происходит посреди кафеля холодильной комнаты морга, напоминал черно-белую графику фильма-комикса «Город греха» Роберта Родригеса. С той разницей, что страдания Гамлета были не стилизованные, а самые что ни на есть физически осязаемые — на эту роль Бобе пригласил актера цирка, Пьера Картонне. И каждый раз, когда жизнь подставляла ему новую подлянку, Гамлет Картонне вместо слов одним движением и всей мощью тела взлетал на самую верхотуру циркового шеста. Или повисал головой вниз под колосниками. Понятно, что обычные драматические актеры, занятые в ролях Клавдия, Гертруды, Полония резко не совпадали по стилю с таким Принцем. Добавьте к этому, что Гильденстерна (в трактовке Бобе — бродячего убийцу), танцует африканец ДеЛаВаллет Бидьефоно ( он же хореограф спектакля), могильщика — тоже чернокожий рэпер, а сцену мышеловки исполняет труппа актеров – даунов, чтобы усугубить так сказать издевательскую придумку принца. Если к тому же учесть, что полдействия все словно тонет в забойной силы техно-музыке, а вторую половину тонет в буквальном смысле слова, поскольку сцена, как это вообще свойственно спектаклям Бобе, захлестывается потоками воды, то станет ясно, что как у всякого радикального акта, у этого «Гамлета» были свои приверженцы и свои противники. Но у всех остались в памяти несколько сцен потрясающей красоты: отчаянный танец Гамлета посреди чёрной воды, в которой зеркально отражались кафельные стены, последняя сцена поединка Гамлета и Лаэрта, под завораживающую музыку Фредерика Деслиаса, сумасшествие рыжеволосой Офелии – Абигайль Грин. Ее изысканный английский, ее ненаигранная хрупкость с самого начала столь контрастировала с жестоким драйвом города греха, что было понятно, ее первую смоют потоки черной воды. Так и получилось. Но слово произнесено: да, в том спектакле Бобе был невероятный драйв, поддержанный новым переводом Паскаля Колена. Актер по профессии, он, как никто другой, сумел вернуть текст Шекспира от филологических изысков к реальности подмостков, заставить его звучать живо и современно. И на все драматическое действие мощное влияние оказала хореография конголезского танцора ДеЛаВалле Бидьефоно, сыгравшего также роль Гильдерстерна.

Photo Alex Yocu
Этой осенью Давид Бобе решил повторить своего «Гамлета» с русскими актерами. С учениками Кирилла Серебренникова из Седьмой студии МХТ Бобе работает в третий раз. И, видимо, не в последний – он нашел в этих актерах, как любит повторять он сам, свою идеальную команду. В марте московский спектакль Бобе приехал на гастроли в Париж. Что получилось?Первые полтора часа смотреть невыносимо скучно – несмотря на ту же сценографию, тот же режисcерский посыл, перед нами предстал обычный традиционный театр, и к тому же очень иллюстративный. Возможно, сказался языковый барьер, и Бобе, у которого нет большого опыта работы с поэтическим текстом, не чувствует как банально играют его русские актеры. Здесь превалировали бытовые интонации, совершенно не вяжущиеся с машиной для игры, придуманной Бобе в «Гамлете», которым мы восхищались во Франции 4 года назад. Да, актеры пластичны, но не более того. Бессловесный этюд «Убийство Гонзаго», исполненный актерами с синдромом Дауна, в повторении тоже не впечатлял. Гамлет Филиппа Авдеева – просто современный подросток, никак не принц. И восстает он против взрослого мира, мира пошлости, тоже совсем как обиженный ребенок. И вызова, подобного тому, что бросал горизонтальному миру Клавдия вертикальный полет на шесте Пьера Картонне, здесь не предвиделся. Иногда Авдеев кажется совсем беспомощным – высокий слог ему не дается, а уникальной энергетики, которая высекалась на пересечении циркача Кардонне и африканца Де ЛаВаллета, в этой первой половине спектакля никак не складывалось. Да и режиссер на высоком поэтическом слоге не настаивал – везде, где можно используется сниженная лексика. Например, монолог принца на свадьбе отца и матери звучит так: «И месяца не прошло – этого блистательного короля, который так любил мою мать, могу ли я забыть?……., она же вечно вешалась ему на шею!» Ирина Выборнова, яркая блондинка с пышными формами, играла Гертруду хорошо поставленным голосом примадонны провинциального театра, знающей, что при всех раскладах она здесь главная. Как чисто декоративный привесок выглядит теперь английский, на котором изъясняются здесь Лаэрт и Офелия. В первой части вообще интересен только Клавдий Артура Бесчастного.

Филипп Авдеев -Гамлет. Photo Alex Yocu
Перелом происходит в середине спектакля, после убийства Полония: вмиг повзрослевший Гамлет примеряет на себя шутовской костюм Бэтмана, чтобы посреди черной воды отдаться танцу отчаяния. Вся вторая часть проходит на одном дыхании, появляется ритм, и драйв, которого так не хватало спектаклю в исполнении русских актёров. К сцене поединка Филипп Авдеев выходит Принцем – все понявшем, все принявшем, не мальчиком, но мужем. Сделав выбор в пользу смерти, обретает свободу. Но самое главное открытие спектакля – Александр Горчилин в роли Могильщика. Казалось бы, по части отвязной иронии переиграть рэпера Малоне Байимисса невозможно. А Горчилину удалось – этот молодой парень в дредах, с обворожительной свободой напевающий скабрёзную песенку про жеребца – квинтэссенция шекспировского шута с его гривуазными шуточками, иронией к себе и к миру, презрением, как к смерти, так и к смертным. Конечно, если учесть, что Дания здесь не тюрьма, но морг, становится понятно, что Могильщик, как не крути, – персонаж центральный. (Песенка могильщика, очень сдержанная в классических переводах, в переводе Александра Давыдова звучит так: «Уж я по молодости лет, ох, был и жеребец, / Любая щель годилась мне, чтоб вставить свой конец. / Но если бы случилось мне жизнь сызнова начать, / Едва начавши, стал бы я кончать, кончать, кончать». Для сравнения, перевод Пастернака: «Не чаял в молодые дни / Я в девушках души / И думал, только тем они / Одним и хороши. / Но тихо старость подошла / И за руку взяла, / И все умчалось без следа / Неведомо куда». Здесь самое время сказать о переводчике, потому что русский Шекспир в спектакле Бобе звучит по меньшей мере неожиданно. В начале уху, привыкшему к высокому слогу пастернаковского «Гамлета», все происходящее кажется странным. Потом все больше и больше затягивает. В основе текста – прозаический перевод Паскаля Колена, который с безупречным вкусом перевела с французского Римма Генкина, использовав несколько существующих русских переводов. И это – одно из самых удачных решений Бобе: шекспировский текст без пафоса и выспренности, без обычного романтического флёра обретает какую-то последнюю высшую простоту. И пронзительность. Вспомнилось о том, что Шекспир не был драматургом в привычном для нас сегодня смысле слова, он писал не пьесу, он писал спектакль. Впрочем, Римма Генкина так и не смогла оставить всю пьесу в прозе. «Во-первых, «Шекспир тянет за собой» и хочется втиснуть текст в строфу, а во-вторых, не хочется обижать российского зрителя, который привык к «Быть или не быть» в стихах»,- цитирует переводчицу журналист lenta.ru. В финале действие опять начинает вертеться на месте, текст кажется избыточно длинным, а Фортинбрасс все никак не может закончить свой последний монолог.
Как заметил известный французский критик Филипп дю Виналь, «спектакль напоминает стилистический экзерсис, иногда блестящий, но большей частью поверхностный».